 | Боцман Я. Два образа трансценденции в женском русскоязычном романе
вому имиджу украинской женщины определенно не достает новых черт. В то же время очевидно, что никакой new image не может состояться без new look'а, направленного на него извне. Мы полагаем, что визуально-речевые паттерны поля русскоязычного романа, ориентированного на женскую читательскую аудиторию, перспективны с точки зрения выработки такого new look'а, поскольку означенное поле является культурным мета-бульоном, в эйдетической толще которого происходит конденсация кластеров женской субъективности, которые представляют живой интерес для исследователей области гендерной проблематики. Два во многом полярных жанра - классический женский роман "про любовь" и неоклассический женский криминальный роман "про убийство" - образуют левую и правую скобки, между которыми заключен весь жанровый спектр литературной продукции для "массовой женщины", актуальной в странах x-СССР в последнее десятилетие. Анализ книжного спроса и предложения позволяет нам обнаружить, что эти скобки не могут быть определены как чисто маргинальные. Напротив, это - магистрали, которыми следует литературный рынок и, между тем, существует опасность, что в ближайшем будущем эти скобки-магистрали превратятся в ширококолейный путь, с которого паровоз феминно-ориентированного книгоиздательства и книгописательства сойдет, лишь добежав до конечной станции.
Левая скобка. Женский роман. Так называемые "Анжелики". В последний раз книгоиздательский бизнес хоронил женский роман два года назад и, как обычно, преждевременно. Массовая женщина по-прежнему желает знать, какова она, динамическая статика внетелесного совокупления, и охотно включается в ее условную реальность. Динамическая статика - основа энергетического каркаса женского романа. Она делает женский роман отличимым от других жанров и структурирует его сюжетное пространство по шаблону апории Зенона - женщина всегда убегает, мужчина всегда настигает, хотя никогда не настигнет. У динамической статики нет и не может быть разрешения, могут быть лишь локальные экстремумы. Финал женского романа - никогда не финал (даже когда будто бы совершается брак), но лишь референция к новой серии, которая всегда близнец серии предыдущей. Именно жесткий жанровый диктат, принуждающий женщин-авторов к динамической статике, делает женский роман одинаковым и вечным.
Несмотря на то, что статическую погоню можно с легкостью вульгаризовать в карнавальную погоню лингамического за йоническим (Кинесис и Мирина), а поведение женщины редуцировать до трансакций, характерных для сексуальной провокации героинь "Лисистраты", и даже несмотря на то, что мужчина женского романа может обладать любым набором маркирующих свойств и его место в женском романе всегда вакантно, женщина женского романа не может быть постигнута через архетип Великой Блудницы, через образ Афродиты Пандемос, Всенародной, не может быть сведена к Великой Обманщице. Как это не комично прозвучит применительно к низкосортной литературе (а женский роман по определению низкосортен, потому что обладает ярко и однозначно трактуемым жанром, стало быть сортом, а качество сортируемой литературы общеизвестно), женщина женского романа реализует великую внегендерную мечту о Едином. В идеале внутреннее пространство женского романа должно быть тем космосом, в котором осуществится августиновский полет души протагониста-мужчины к Единому, которое маркировано как женское. Закроем глаза на то, что этот полет искони заботил мистическую, религиозную традицию, а ныне возглавляет список тем, затертых культурологией до дыр, и возьмем на себя смелость утверждать, что героиня женского романа одержима архетипом Непорочной Мудрой Девы, причем не Софии, но ее предшественницы Изиды и, следовательно, может быть понята только через него. Женский роман есть описание духовного, алхимического брака, пребывающего по Делезу в ситуации чистого становления. Этот брак не может быть описан, но, тем не менее, должен быть осуществлен в пространстве романа, которое по определению логически-дискурсивно. (Естественным выходом, который достоин данной, патовой ситуации словесного описания перманентного брака порочного мужчины и неприступной, неуступчивой Девы является динамическая статика. В английском варианте Саисский манифест Изиды звучит как "no mortal man hath ever me unveeled", где недоступность Изиды контурируется гораздо лучше, чем в русском - "ни один смертный не проникнет под мое покрывало"). Таким образом, можно говорить об апофатичности женского романа.
В свете сказанного совершенно не удивляет, что мужчина женского романа реализован через архетип Иванушки-Дурачка, Simple Simon'а. Очевидно, что рядом с Непорочной Девой, культовой фигурой герметического символизма, немыслим никакой другой образ, поскольку в соотношении с Непорочной Всемудрой, всякий Шекспир "торчит в щели", точно так же, как по сравнению с плюс бесконечностью любой триллион биллионов - величина малая.
Между тем не удивительно, что женский роман на русском и украинском книжном рынке - вещь упорно и настойчиво импортируемая. Ментальный стандарт читателей и издателей требует, чтобы автор женского романа был женщиной и принадлежал к не-советскому культурному пространству. В эту игру охотно играют. Авторы-мужчины публикуют собственные женские романы под женскими иностранными псевдонимами, женщины - под женскими, но тоже иностранными. Следствие из этой номенклативной данности также весьма занимательно: женский роман местного производства насыщается картонными Джонами, Стоунами, Гертрудами и Мэри-Энн. Речь женских романов, помеченных "Made in x-USSR", миметирует под речь иностранцев и, логично, приобретает черты травестийности, а конвенциональность реальности женского романа становится нарочитой, подступая, проникаясь параноидальными конвенциями абсурда и комедии dell'arte, что, однако, не замутняет, но лишь оттеняет моноидейность концепта женского романа, центрированного вокруг темы становящегося алхимического брака.
Правая скобка. Женский криминальный роман. Если "Анжелики" - продукт настойчивого импорта, то женский криминальный роман, напротив, традиционно отечественного производства. В то время как несортируемая литература ориентирована на то, чтобы видеть невидимое, а творчество есть инструмент "захвата невидимого"[[См. Подорога В.А. Выражение и смысл. - М., Ad Marginem, 1995 - с.с.379-385.]], то женский криминальный роман представляет собой знаковый организм, настроенный на захват видимого. Но "видимого" в некотором особом режиме "избирательного" зрения, которое в свою очередь тотально узурпировано, присвоено героиней криминальной драмы. В терминах анализа женщину-героиню криминального романа удобно маркировать как Черное Солнце, чья всеиспепеляющая мощь не подчиняется никакому конвенциональному диктату. (Между тем примечательно, что, маркируя протагониста, мы заодно решаем и задачу описания-осимволивания прочих женских персонажей романа, поскольку они, как правило, являются искаженными оттисками с того же архетипического клише Великой Злой Матери, Кали. Классик жанра А.Маринина[[Маринина А. Стилист. - М., ЭКСМО, 1997.]], к примеру, всерьез полагает "не удивительной", "обычной" ситуацию, когда молодая девушка-уголовница, с детства вращающаяся в обществе, коммуницирующем исключительно на "фене", освободившись из колонии, выдает себя за практикующего программиста, не однажды, вполне успешно работает за компьютером (!) и вводит в роковое заблуждение отягощенного научными степенями переводчика-япониста. Отметим, что данная женская роль принадлежит даже не ко второму, но к третьему по значимости плану романа. Мы видим, что не только в центре, но и на сюжетной периферии манифестируется все тот же центральный архетипического образ криминальной драмы: мортально одержимая женщина, которой по плечу все логические, конвенциональные требования "реальной" реальности).
Текстуальный ландшафт женского криминального романа одномерен, поскольку подчинен одной интенции: женщина убивает (протагонист женщина-маньяк), наказывает (оскорбленная невинность реализует "женскую месть"), надзирает (протагонист женщина-следователь) в борьбе за идентификацию себя как женственной женщины посредством отделения, депривации мужчины, который выступает как мучимый, преследуемый, жертва. (Именно агрессия с целью идентификации отличает героиню женского криминального романа от проводниц мазоперверзий "Венеры в мехах"). В описанном ландшафте разворачивается перфоманс, подчиняющийся закону статической динамики: женщина-преступница (она же женщина-следователь) совершает сюжетные действия (преимущественно убивает и расследует убийства), но в силу отсутствия сколько-нибудь убедительных рефлексий над полем акций и аморфности, несделанности языка имеющихся рефлексий, действия убийцы, как и действия следователя, не образуют событийного космоса, но остаются хаосом. Это подталкивает нас к утверждению, что в женском криминальном романе отсутствует убийство как акт совершенной (perfect) деструкции ("убийство должно быть... как бы герметичным - для всех"[[Дашкова П. Легкие шаги безумия. - М., ЭКСМО, 1998. - с.197.]]), но "убийство" и "следствие" (как антитеза или как "подмена" убийства) пребывает подобно алхимическому браку в женском любовном романе в ситуации "чистого становления".
Возвращаясь к центральному образу трансценденции женской криминальной драмы, к образу Карающей Матери, Кали, остановимся на выходе архетипа из речевого в визуальное измерение. Иллюстративный материал, представленный на рисунках 1-3[[Визуальный материал взят из: Преступники и преступления. Женщины-убийцы. - Донецк, "Сталкер", 1998.]], со всей наглядностью демонстрирует нам, что не только письмо женского криминального романа, но и знаковость тюремной татуировки (раскавыченного письма по женскому телу) ориентирована, в частности, на детальное воссоздание образа Кали и на буквальную репродукцию ее атрибутики. Рис.1. Кали с черепом жертвы. Рис.2. "Из ее (Кали - Я.Б.) широко разинутого рта свисает длинный язык"[[Гринцер П.А. Кали / Мифологический словарь. - М., "Большая Российская энциклопедия", 1992. - с.272.]]. Рис.3. Кали с жертвенным ножом кхадга. 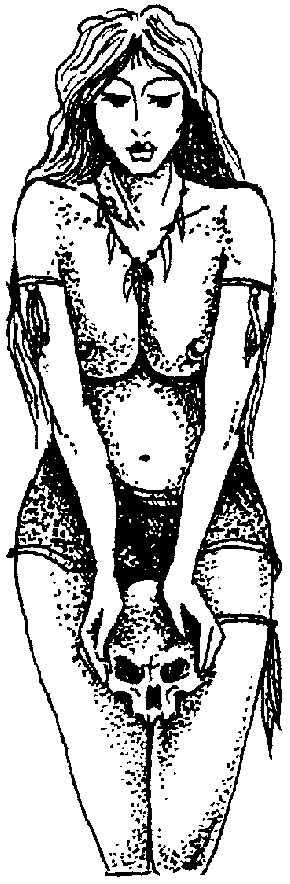 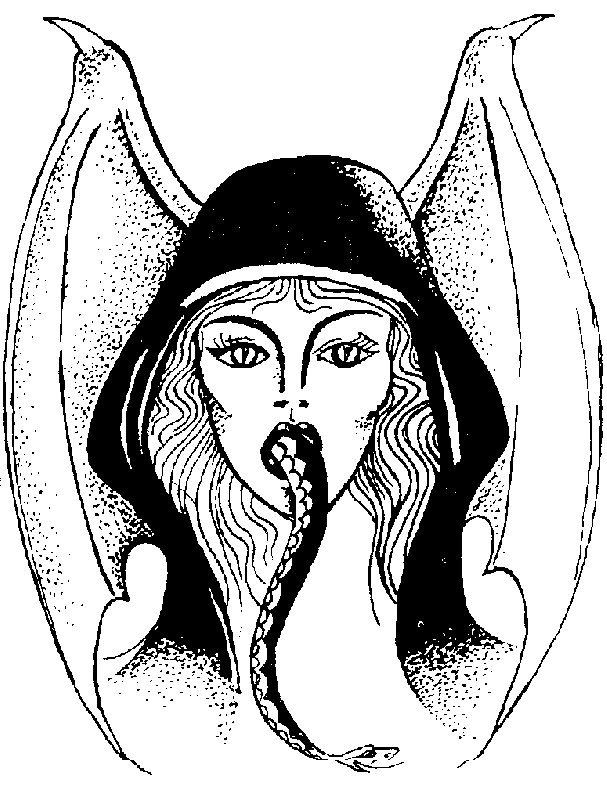 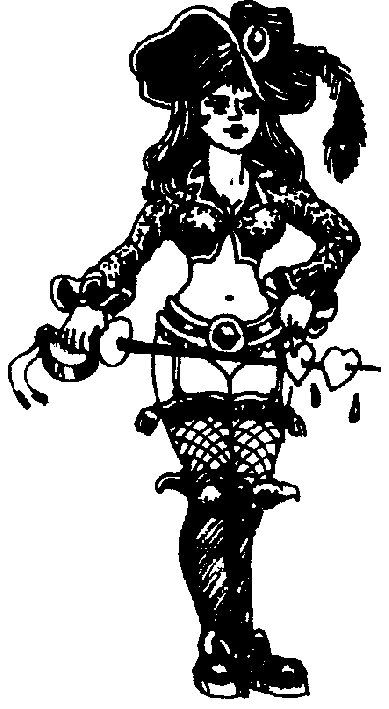
Следует отметить, что та настойчивость, с которой оба выделенных образа трансценденции в современном русскоязычном женском романе (аналогически обозначенные здесь как Кали и Изида) эксплицируют целостность коллективного бессознательного, вызывает у нас некоторое недоумение. В самом деле, в условиях патриархальной культуры маскулинной направленности от женского романа следовало бы ожидать манифестаций архетипов Великой Матери или по крайней мере Великой Блудницы, поскольку именно такая практика, в соответствии с опытом археологического анализа речевого измерения культуры, характерна для патриархальной культуры.
|