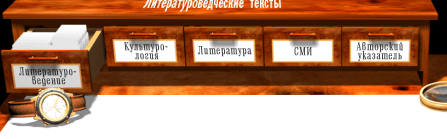

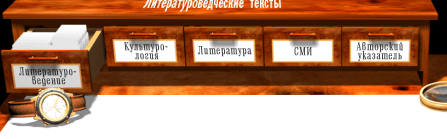 |
||||
 |
||||
"Темы стихов Марии Шкапской в основном ограничены кругом переживаний жены-любовницы-матери. Любовь, зачатие, беременность, аборт, — пишет в своем интересном предисловии к лондонскому сборнику ее стихов Б.Филиппов[1]. Все правильно. Кроме слова "ограничены". Наверное, все-таки ближе к истинной оценке значимости материнства Райнер Мария Рильке, высказывание которого в cвоем переводе приводит во втором предисловии к тому же cборнику Е. Жиглевич: "Возможно, что над всем и всеми распростерто огромное материнство, до которого все мы хотим дорасти..." (курсив мой, — Н.Г.)[2].
В cовременной "патриархатной" культуре материнство нередко называют "священным". Но сам телесный опыт зачатия, вынашивание, роды, за редким исключением, артикулировать не принято. Как пишет исследовательница Татьяна Щепанская: "Лексика, обозначающая специфически женские телесные проявления, табуирована. С дневной поверхности культуры она изгоняется либо в специальную медицинскую сферу, либо в запретную зону инвектив... Нам важен факт табуированности лексики, относящийся к женским телесным проявлениям. Вместе с нею табуируется и сама женская телесность. Культура препятствует ее вербализации, так что женский телесный опыт остается невидимым с точки зрения повседневности"[3]. Безусловно, есть свои табу, связанные и с мужской телесностью, и это влечет за собой достаточно драматические последствия и для мужчин[4]. Но эта важная проблема выходит за рамки нашего исследования. Что же касается вербализации женского телесного опыта, то на сегодняшний день в России он понемногу "растабуируется", появился ряд произведений писательниц, осмысляющих его. Однако таких произведений мало и, в отличие от, например западной литера туры, где тема женской телесности гораздо более широко изучается, они пока достаточно маргинальны по отношению к общему литературному процессу. Но, безусловно, ситуация, описанная Щепанской, сохранила всю свою силу в годы, когда жила и творила Шкапская (1891-1952). И то, с каким блеском и мощью она сумела выразить этот женский опыт, граничит с художественным подвигом, непревзойденным и по нынешний день. Впрочем, Шкапская нигде в своих стихах не употребляет табуированной лексики, однако телесный опыт женщины высвобожден ею из культурного "небытия" и передан с большой художественной силой. Так что вербализовать телесный опыт можно и без табуированной лексики. Хотя, конечно, ничего "ужасного" мы в ней не находим.
Женский телесный опыт, и в первую очередь беременность, есть опыт двойного бытия, симбиотического сосуществования матери и плода, "я" и "другого":
О, тяготы блаженной искушенье,
Соблазн неодолимо зваться "мать"
И новой жизни новое биенье
Ежевечерне в теле ощущать.
..........................................................
И быть как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придет пора отвоплотиться
и стать опять отдельной и одной.
Связь матери и ребенка настолько сильна, что и отвоплотившись друг от друга, они остаются взаимопроницаемыми. В случае смерти ребенка материнская экзистенция разворачивается в пространстве и наcтолько расширяется, что проникает собой даже землю, в которой он упокоен:
Мне травы на крик отвечали
И плакали росы со мною
И узы священной печали
Меня сочетали с землею.
С тех пор ее зову покорна
Все слушаю каждой весною,
Как в ней наливаются зерна
Моею печалью — и мною.
Беременность-вынашивание — это особый опыт переживания бытия в его нерасчлененности, когда нет жестких границ, между "я" и "другим", опять настолько глубинного сопереживания "другому", столь тесного их взаимопроникновения, что трудно различить, где кончается "я" и начинается "другой".
Этот опыт женщина переживает не только во время беременности. Как замечает американская исследовательница Нэнси Ходороу, "девочки имеют более прочную основу для переживания... чувств другого как своих собственных... С самого раннего возраста, из-за того, что они рождены человеком того же рода... девочки начинают чувствовать себя менее обособленными, чем мальчики, более связанными с внешним объективным миром[5]. Комментируя эти высказывания, Кэрол Гиллиган пишет: "Для мальчиков и мужчин обособление и индивидуализация необходимым образом связаны с формированием половой идентичности, поскольку отделение от матери является существенным для развития маскулинности. Для девочек и женщин проблемы фемининности, как феминной идентичности, не зависят от достижения обоcобления от матери... Маскулинность определяется через обособление, в то время как феминность определяется через единение..."[6]. Трудно сказать, что здесь идет от социализации, а что от биологии. Тем не менее высказывания Холороу и Гиллиган кажутся нам существенными и особо уместными в нашем исследовании потому, что черты именно такого взаимоотношения с миром мы наблюдаем в творчестве Шкапской.
Человеческий космос поэзии Шкапской текуч: предки перетекают в потомков, прошлое в будущее и свершается это через женское тело, которое оказывается переполненное голосами умерших и тех, кто только еще грядет родиться: "Но кровь вашу непрерывную хранит моя бедная плоть...".
Кровь-руда — устойчивый символ поэзии Шкапской. Это все тот же поток, нередко встречающийся и в творчестве других поэтесс, и поток этот также связан с таинством и с неким сакральным знанием, он исполнен смысла, выходящего за рамки обыденного знания:
Лежу и слушаю, а кровь во мне течет,
вращаясь правильно, таинственно и мерно,
и мне неведомый нечеловечий счет
чему-то сводит медленно и верно.
(курсив мой, — Н.Г.)
или
И какие древние тайны
в крови бессменной моей —
от первых дней мирозданья
хранятся до наших дней.
Кровь-руда, живоносный поток размывает грани между "я" и "другим", иногда до степени тождества. Вот как пишет Шкапская о предках:
О, горькая и дивная отрава! — Быть
одновременно и ими и собой.
Тема наследственности встречается иногда и в творчестве других поэтов, в том числе мужчин (например, у Евг. Винокурова). Но лишь у Шкапской она становится главной темой, лейтмотивом всего творчества и прочно увязывается именно с женским телесным опытом, вскрывающим такие качества личности, как текучесть и позволяющим увидеть мир как глобальное взаимоперетекание.
Опыт этот амбивалентен. С одной стороны, это мощный опыт сопереживания и тем самым гигантского расширения личности во времени и пространстве. Это придает насыщенность бытию, дарует возможность проживания чужой жизни как своей собственной, шанс заново пережить в себе жизнь предков:
... огнецветный незабвенный след
страстей и гнева, вспыхнувших когда-то, —
в крови моей цветет до этих лет.
Шанс проникновения в грядущую жизнь:
Затем, что cыновья и внуки —
для нас для всех входной билет
за порцию текущей муки
на зрелище грядущих лет.
Текучесть мира заставляет личность вновь и вновь переходить за собственные пределы, завязывать все новые и новые симбиотические узлы "я" и "не-я", зачинать в себе нового "другого". Женское чрево "взыскано" Богом. Именно "текучесть" женского "я" порождает всемирную общность:
Будет избранница, будет корабль в новые
темные воды. — Только однажды светильник
зажгла б — род не прейдет и пребудут народы.
Но "проницаемость" женской личности не только благословенна, но и мучительна. Ибо у нее нет (по Шкапской) жестких охранительных границ и проникновение в нее "других" может оказаться настолько сильным, что начинает подавлять личность:
Деды дедов моих, прадеды прадедов,
сколько же было вас прежде меня? Сколько
на плоть мою затрачено с древних
времен и до этого дня.
...............................................................
Ношей тяжелой ложитесь мне на плечи, —
строю ли, рушу ли, бьюсь иль люблю, — каплями
пота, кровавыми каплями, вы прорастаете
в волю мою.
Текучесть мира, благословенная взаимоперетекаемость, взаимонасыщение — в своем пределе, в "чистом" беспримесном виде — может обернуться деперсонализацией:
Тяжкой десницей и волей Отца
В наших путях неотверзтое небо,
Надо, чтоб Мудрый нам не дал лица,
Надо, чтоб голоса Мудрый нам не дал.
Божественная "взыскательность" женского чрева оборачивается "женской Голгофой":
О эта женская Голгофа! — всю силу
крепкую опять в дитя отдай, носи в себе,
собой его питай — ни отдыха тебе, ни вздоха.
Пока иссохшая не свалишься в дороге —
хотящие прийти грызут тебя внутри. Земные
правила просты и строги: рожай, потом умри!
И Шкапская то ропщет на Бога, обрекшего ее на "женскую Голгофу", и тогда зачатия кажутся ей "слепыми" и бессмысленными, а любовь — уловкой, вынуждающей женщину на бесконечное воспроизводство, непостижимое уму:
Веселый Скотовод, следишь смеясь за нами,
когда ослепшая влечется к плоти плоть, и спариваешь
нас в хозяйственной заботе трудолюбивыми руками.
И страстными гонимые ветрами, как листья
осенью, легки перед Тобой, — свободно выбранной
довольны мы судьбой, и это мы любовью называем.
То смиряется и возносит к Нему надежды на то, что смысл будет явлен:
Молчали мы и нас никто не слышал
И неуслышим будет голос твой,
Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит —
Стать может Голосом и Судною Трубой.
Литература
[1] Филиппов Б. О замолчанной. Несколько слов о Марии Шкапской//Мария Шкапская. Стихи. Лондон, 1979. С.8.
[2] Там же. С. 21.
[3] Щепанская Татьяна. Телесные табу и культурная изоляция//Феминистская теория и практика: Восток - Запад: Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 1996. С. 227.
[4] Об этом см., напр.: Синельников Андрей. Мужское тело: взгляд и желание. Заметки к истории политических технологий тела в России//Гендерные исследования. 1999. № 2. С. 209-219.
[5] Chodrow N. The Reproduction of Motheing. Berkley, 1978. P. 167.
[6] Гиллиган, Кэрол. Иным голосом//Феминизм и гендерные исследования. Тверь, 1999. С. 147.