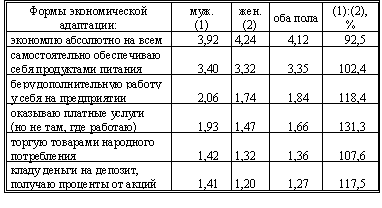| Космарская Н. П, Мезенцева Е. Б. С мечтой о достатке. Формирование правового сознания
Продолжение. Перейти к предыдущей части текста
Материальный достаток в структуре ценностей
переходного времени
Выдвижение "материального благосостояния" на лидирующие позиции в системе
ценностных ориентаций россиян уже было зафиксировано рядом авторитетных
обследований и даже подвергнуто содержательной концептуализации, на наш
взгляд, отнюдь не бесспорной. Сошлемся, например, на результаты социологического
мониторинга массового сознания в условиях общественной трансформации,
проводимого с 1993 г. РНИСиНП. Важнейшей новой тенденцией в жизненных
ориентациях, начавшей проявлять себя с весны-лета 1996 г., стало вытеснение
"ценностей духовно-нравственного характера, всегда преобладавших в российском
менталитете, ... ценностями сугубо материального, прагматического характера.
В отношении некоторых базовых ценностей знак их предпочтения сменился
на прямо противоположный" (Горшков, НГ-Сценарии 1997: 1).
В частности, речь идет о том, что в настоящее время уже 2/3 населения страны материальный достаток ставят значительно выше ценности свободы; аналогично, ценность интересной работы поменялась местами со значимостью величины оплаты труда, а ценность спокойной совести утратила свое лидерство, потеснившись за счет стремления к власти, успеху, возможности оказывать влияние на других людей (подробнее см. Горшков, НГ-Сценарии 1997: 1). Объясняя суть произошедших в психологии населения кардиналь ных сдвигов, автор вопрошает: "...могли ли жизненные ценности материального порядка не начать буквально "глушить" духовно-нравственные и демократические ценности в условиях, когда значительная часть населения страны в течение уже более 5 лет решает для себя и своей семьи, по сути, одну основную задачу - задачу выживания" и делает следующий вывод: "В России сегодня сосуществу ют две различные модели ценностных систем. Одна из них тяготеет к постиндустриальной индивидуалистической модели ценностей западного типа, а другая - связана с носителями традиционалистской российской ментальности и тяготеет к патриархально-коллективистской модели ценностей" (Горшков, НГ-Сценарии 1997: 6).7
С этой общей формулировкой можно было бы согласиться, если бы не два момента. Во-первых, в статье содержится необъясненное противоречие: с одной стороны, говорится о наступлении ценностей "сугубо материально го, прагматического характера", а с другой - приводятся данные о том, что "под бременем реформ" за последние годы сократилось число приверженцев "индивидуалисти ческой системы ценностей" и возросли ряды носителей традиционной модели. Во-вторых, здесь "смазан", по сути, ключевой в данном контексте вопрос о связи наблюдаемых сдвигов в системе ценностей со сдвигами на поведенческом уровне. Говоря бытовым языком, готовы ли люди, осознав значимость для себя лично материального достатка, жизненного успеха и пр., хотя бы что-то предпринять для достижения этих целей? Лишь вскользь, рассматривая проблему в региональном аспекте (и сделано это весьма традиционно, в рамках схемы "центр-периферия"), автор затрагивает поведенческий аспект, говоря о преобладании в столице элементов сознания, близких западному менталитету, и о распространенности там ориентации на собственные силы.
На наш взгляд, представленные выше модели ценностных систем хотя и удобны для академических дискуссий, все-таки излишне схематично отражают процесс трансформации общественного сознания в постсоветских условиях. Возможно, в головах носителей той или иной модели ценности "одного толка" не столь органично спаяны между собой? Может быть, давление социально-эко номических факторов, выводя на первый план ценности материального достатка, не только не вытесняет, но даже усиливает, в качестве средства самозащиты, уравнительно -патерналистские и коллективистские настроения - вот и объяснение вышеобозначенного нами противоречия? От этих настроений лишь один шаг к соответствующей модели поведения, сводимой к пассивному и долготерпеливо му ожиданию от государства того, что "положено" 8.
7 В еще более заостренном виде формулирует этот тезис Л.Косова:
"...существует не одна Россия, а две: "советская ", все более маргинализирующаяся,
и другая, по отношению к которой можно было бы употребить слово "новая",
если бы оно не несло на себе столь явно романтико-оптимистического отпечатка.
Возникли и параллельно существуют два социальных мира, каждый со своими
поведенческими образцами, структурами авторитетов, рамками идентификации,
информационно-коммуникативными полями" (Косова 1997: 17-18).Говоря другими
словами, экономическое "бремя реформ" в сочетании
с перестроечной политической "оттепелью" и падением железного занавеса
привели к тому, что, с одной стороны, признаться в стремлении чем-то обладать
перестало быть позорным (и тем более опасным) и, более того, стало выражением
жизненно важных потребностей, чего не было при социализме. С другой стороны,
поведенческие сдвиги, ориентирующие людей на самостоятельное достижение
желаемого или необходимого, пока отстают от новаций в восприятии "духовного
и материального". Собственно, такого рода отставание, на наш взгляд, и
наблюдается в Рыбинске. Заметим в скобках: конкретный анализ обнаруживает
значительно большее разнообразие региональных моделей динамики сознания
и поведения, нежели пресловутая дихотомия "столица-глубинка". В огромной
по территории и многонациональной России важную роль играют не только
уровень экономического развития, местные особенности "человеческого капитала"
и территориальное "лицо" реформ, но и этнический фактор.
Для кого-то он утяжеляет, а для кого-то облегчает их бремя, а также, в
зависимости от сложившейся этносоциальной структуры, влияет на менталитет
различных этносов, включая и самих русских. Пример контрастной по отношению
к Рыбинску региональной модели будет представлен ниже (на примере одной
из стран СНГ).
Стратегии экономической адаптации в условиях
"цивилизации российской провинции"
Если вернуться в Рыбинск, то более реалистичной интерпретацией происходящих там сдвигов в сознании и
поведении людей представляется подход В.Вагина, развивающего идею об особой "цивилизации российской провинции". Речь идет об специфическом "жизнеустройстве" семейных домохозяйств, присущем маленьким городкам и поселкам численностью до 50 тыс. чел., небольшим городам с населением до 100 тыс. чел. и в определенном мере средним городам (каковым и является Рыбинск). Анализируя "изощренное разнообразие неформальных практик жизнедеятельности населения" в период реформ, автор приходит к выводу о том, что "сложности экономической ситуации пробудили не "рациональное ", "современное " экономическое поведение, а скорее традиционные, основанные на российском опыте выживания в годы войн и сталинской экономики стереотипы жизнеустройства", среди которых важнейшие - "взаимопомощь", "самообслужива ние" домохозяйств, "самообеспечение" продуктами питания (Вагин 1997: 55, 59, 61).
С цивилизационной точки зрения подход данного автора, оценивающего доминирующие жизненные стратегии в данных условиях как традиционалистские, представляется весьма плодотворным. Однако вызывает возражения недоучет социальных и региональных особенностей адаптации и отсюда излишне, на наш взгляд, благодушный тон при оценке результативности подобных стратегий. Например, мы читаем о семьях, комбинирующих "различные виды деятельности для обеспечения относительного достатка", об "огромном объеме неденежных доходов, получаемых семьями в процессе "самообеспечения " и "самообслуживания ", а само слово "выживание" использовано в статье лишь один раз применительно к условиям войн и репрессий (Вагин 1997: 63, 61).
Нетрудно догадаться, что ведущую роль в "самообес печении" домохозяйств играет
так называемая "жизнь с огорода". Как показывает одно из упоминаемых в
работе исследований, 61% респондентов в качестве двух наиболее важных
источников дохода назвали, наряду с зарплатой, выращивание сельскохозяйственной
продукции. В Пскове, городе, который по многим параметрам может быть сопоставлен
с Рыбинском, в 1994 г. 67% населения имели личные земельные участки для
выращивания овощей и фруктов, а также подсобные помещения для хранения
урожая (Вагин 1997: 61, 74). Результаты нашего обследования вполне идентичны
и, более того, ярко демонстрируют весомый "вклад" огорода в обеспечение
семей продуктами питания. Так, подавляющее число опрошенных (67,3%) имели
садовый участок или дом в деревне; из них 5,3% практически полностью обеспечивали
за счет участка свои потребнос ти в овощах, ягодах и пр. и даже могли
позволить себе продавать излишки; 34,5% - также обеспечивали себя "плодами
земли", но уже ничего не продавая; большинство (51,7%) частично покрывали
свои потребности за счет огорода; 7,1% были вынуждены большую часть необходимого
покупать на рынке и в магазинах и, наконец, 1,3% отметили, что покупать
приходится практически все.
Как подчеркивает Р.Роуз, выращивание горожанами продуктов питания представляет собой особенность "обществ повышенной тревожности" (Роуз 1995 [цит. по: Вагин 1997: 61]). В условиях таких обществ уже само наличие земельного участка представляет собой своего рода "страховку", своего рода "неприеосновенный запас". Участок даже не всегда эксплуатируется, его держат для того, чтобы в любой момент встретить трудности "во всеоружии":
"У нас даже два участка. На одном дом стоит, правда маленький, грядки там, теплица небольшая. А на другом - ничего. Просто кусок земли в 10 соток и все. У нас работников немного, так что на один только сил и хватает. Когда предлагали в 1991 году, я и взял. Лишним не будет. Так, на всякий случай. Вдруг да понадобится" (Михаил, 46 лет, служащий).
Таким образом, экономический потенциал огорода оказывается важнейшим адаптационным ресурсом жителей провинции, а трудовые усилия, затрачиваемые на выращивание продукции, весьма точно коррелируют с изменением локальной социально-экономической ситуации. В условиях резкого снижения уровня жизни, невыплат, остановки предприятий и пр., экономический вклад "огорода" в семейный бюджет существенно возрастает, а сама "огородная занятость" начинает конкурировать по важности с город
ской.
Однако, несмотря на резко возросшую за последние годы значимость "огородной экономики", способы адаптации населения к изменению социально-экономической ситуации не ограничиваются одним лишь самообеспече нием продуктами питания. Итак, какие же стратегии выбирают жители Рыбинска, чтобы улучшить материальное положение своих семей и пережить трудные времена?
Для выявления этих стратегий респондентам задавался закрытый вопрос о том, что они делают, пытаясь разрешить материальные проблемы своей семьи, причем в анкете фиксировался не только сам факт участия в той или иной деятельности, но и степень вовлеченности в нее, которую респондент мог оценить по пятибалльной шкале. Предложенный перечень "закрытий", не являясь исчерпывающим, позволяет, тем не менее, получить достаточно полное представление об "вкладе" той или иной деятельнос ти в формирование стратегий экономического выживания (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Соотношение различных форм экономической адаптации
(в порядке убывания)
(средневзвешенные оценки вовлеченности в данные виды деятельности)
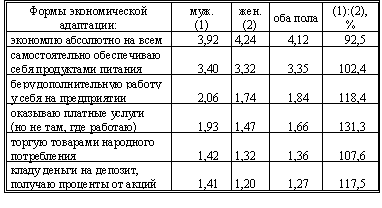
Полученные результаты позволяют выявить три группы форм адаптационного
поведения, различающиеся по степени участия в них населения:
· Наиболее высокий уровень включенности соответствуют традиционным путям
решения материальных проблем. Это пассивная форма адаптации ("экономлю
на всем") либо активная стратегия самообеспечения продуктами питания,
причем ориентация на "затягивание поясов" распространена даже шире, чем
"огородное выживание";
· Средний уровень включенности отмечается для форм адаптационного поведения, в той или иной степени связанных с профессиональной занятостью респондентов (варианты ответов: "дополнительная работа на своем предприятии", "оказываю платные услуги, но не там, где работаю");
· Наконец, низкий уровень включенности характеризует формы экономической адаптации, связанные с освоением новых для населения видов деятельности. Здесь также можно выделить активную форму "реагирования" - например, челночный бизнес и мелкая розничная торговля ("торгую товарами народного потребления"), а также пассивную форму, связанную с получением процентов от вкладов либо с приобретением ценных бумаг ("кладу деньги на депозит, получаю проценты от акций").
Интересно, что мужчины и женщины явно демонстрируют различные предпочтения в отношении названных форм экономической адаптации. Очевидное, сразу же бросающееся в глаза различие состоит в том, что женщины чаще отмечают традиционный пассивный вариант экономического выживания, связанный с "затягиванием поясов", в то время как мужчины явно лидируют и по включенно сти в дополнительную занятость (как в рамках своей профессии, так и со сменой профессии), и по степени освоения новых видов деятельности (получение доходов от вложенного капитала). Что же касается обеспечения семьи продуктами питания и торговли товарами народного потребления, то в этих видах адаптационного поведения наблюдается относительное "гендерное равенство" - и мужчины, и женщины участвуют в них примерно в равной степени.
Есть ли зависимость между включенностью респондентов в отдельные виды адаптационной деятельнос ти и их социально-демографическими характеристиками?
Определенно просматриваются две различные логики в распространенности форм экономической адаптации. Первая логика, которую условно можно обозначить как "универсальную", охватывает две наиболее распространенные формы приспособления - "затягивание поясов" и "огород", к которым прибегает абсолютное большинство опрошенных (в среднем свыше 80%). Столь широкая распространенность позволяет отнести эти формы адаптационно го поведения к базовым, типичным практически для всех слоев населения. При этом в случае "огородного" самообеспечения "фоновый" характер выражен в большей степени - участие в этом виде деятельности сравнительно слабо зависит от таких характеристик, как образование, социальный статус и даже уровень материального благосостояния. Что же касается "экономии на всем", то здесь обнаруживается сильная связь с материальным положением (выраженным как в величине среднедушевого дохода, так и в субъективных оценках) и, в меньшей степени - с возрастом и образованием.
Все остальные из включенных в анкету вариантов приспособительного поведения следуют за названными "базовыми" формами с очень значительным отрывом: так, например, дополнительная занятость охватывает 18,2% респондентов, торговля товарами народного потребления - 7,9%, получение процентов либо дивидендов - не более 5%. Логика распространенности этих форм адаптационного поведения может быть условно обозначена как "очаговая", типичная лишь для некоторых групп населения. При этом участие в этих видах деятельности, как правило, дополняет одну (или обе) базовые формы. (подробнее см. Табл.8 Приложения). Так, например, рассматривая взаимосвязь "очаговых" форм с возрастом, можно видеть, что практически все они в наибольшей степени характерны для возрастной группы 20-29 лет.
С переходом к более образованным группам населения явно растет распространенность
дополнительных приработков и платных услуг, а торговля товарами народного
потребления, не имея столь строгой корреляции с образованием, тяготеет
к середине образовательной шкалы - к группам со средним специальным либо
незаконченным высшим образованием.
Наконец, семейное положение также связано со степенью включенности в различные стратегии адаптации. Самые большие различия в этом плане наблюдаются между респондентами из полных и неполных семей (разведенные, вдовые). Так, "затягивание поясов" - важнейшая (и часто единственная) стратегия выживания разведенных и вдовых респондентов, при этом именно они меньше всего включены в "огородную экономику". Здесь явно прослеживается гендерный аспект проблемы экономического выживания - большинство вдовых и разведенных составляют женщины, и отсутствие мужчины в семье негативно сказывается на возможностях улучшить свое материаль ное положение за счет огорода. Аналогичная ситуация отмечается и в отношении других форм экономической адаптации - в частности, дополнительных приработков и мелкой торговли: разведенные и вдовые респонденты также демонстрируют значительно меньшую включенность в эти виды деятельности.
Подводя итог сказанному в этой части статьи, проследим взаимосвязь форм адаптационного поведения с трудовыми ориентациями респондентов. "Фоновые" формы адаптационного поведения представляют собой практически единственный способ приспособления к экономическим трудностям, которым располагают респонденты из числа ориентированных на гарантии. Именно здесь взаимосвязь "состояния умов" и материального бытия прослеживается наиболее отчетливо. Эту мысль как нельзя более точно выразила одна из наших респонденток:
"Мы никогда не жили богато. Мы никогда не шиковали, ни раньше, ни теперь. У нас никогда не было машины или еще чего-то такого. Нам и не надо. На большое мы не замахиваемся".
Конечно, дело здесь не только в неготовности идти на риск или нежелании улучшить свою жизнь. Немаловажная причина состоит в ограниченности индивидуальных ресурсов (как материальных, так и профессионально-ква лификационных и образовательных), которые позволили бы выработать эффективные стратегии социально-эконо мической адаптации.
Это обстоятельство подчеркивает и Н. Наумова, определяя эту модель пассивной адаптации как "стратегию выживания", характерную для "...групп населения с небольшим жизненным и социальным ресурсом, с невысоким статусом и ухудшающимся материальным положением. Здесь преобладают мягкие ценностные системы и идентификация с группами сходной социальной судьбы..." (Наумова 1995: 20). Социальная мобильность этой группы оказывается блокированной, а материальное положение эволюционирует, по ее меткой формулировке, в точном соответствии с "законом Матфея" - "богатому присовокупится, а у бедного отнимется последнее", или, как гласит народная мудрость, "деньги к деньгам, женихи к женихам".
Этот же закон применим и к описанию положения наиболее динамичной из выделенных групп - респонден тов, ориентированных на независимость и собственное дело. Если вспомнить важнейшие характеристики этой группы, то в их число войдут молодость (а следовательно, и здоровье), хорошее образование, занятость на предприятиях негосударственной формы собственности, обладание высокой профессиональной квалификацией. Именно эти респонденты проявляют наивысшую готовность рисковать, они наиболее активно включаются в новые формы экономической адаптации и уже сегодня достигли относительного материального достатка. Легко предположить, что перечисленные факторы и в будущем будут способствовать их восходящей мобильности и материальному процветанию.
Что же касается ориентированных на заработок, то здесь адаптационные
ресурсы скромнее, чем в предыдущей группе, и этому обстоятельству вполне
соответствует "промежуточная" структура включенности членов этой группы
в различные формы адаптационного поведения. По сути дела, они используют
в целях адаптации лишь один, хотя и важный тип ресурсов - квалификацию,
опыт, репутацию, социальные связи в пределах своего предприятия. Именно
в этом состоит главное объяснение сравнительно высокой включенности в
дополнительные приработки, которые фактически доминируют
среди активно используемых новых форм экономической адаптации. А в остальном
поведение этой группы достаточно традиционно - "на огород" и "затягивание
поясов" они полагаются больше, чем на другие варианты приспособления к
постперес троечным трудностям. Используемые ими ресурсы имеют узко-специфичный
характер, в результате чего их мобильность в большинстве случаев ограничена
перемещением между однотипными рабочими местами и, в лучшем случае, связана
с переходом на предприятия негосударствен ного сектора.
Социально-профессиональная мобильность
в постсоветских условиях
Красноречивой характеристикой типичной для Рыбинска поведенческой модели пассивной адаптации служит картина социальной мобильности трудоспособного населения за годы реформ.
Появившиеся в последние годы исследования динамики социальных статусов либо нацелены на определение потенциала мобильности (через суждения респондентов о вероятном будущем своем и своих детей, о готовности сменить профессию и пр.), либо, если выясняются реальные перемены в жизни людей, им предлагается "примерить" на себя ту или иную модель приспособительного поведения (см., например, Динамика ценностей... 1996: 111-113; 128129; Левада 1997: 13-14; Латынина 1996: 3 [цит. по: Вагин 1997: 61]).
Существенно реже социальная мобильность населения в постсоветский период изучается на основе эмпирических данных о ретроспективных изменениях в реальном социальном статусе. В качестве примера подобного подхода можно привести исследование Р. Громовой 9. Оно посвящено сравнительному анализу типичных форм мобиль
ности в российском обществе до и после 1985 г. и основано на анализе динамики социальных позиций, предпринятом с помощью сопоставимых статусных характеристик - так наз. индексов престижа, варьирующихся от 1 до 100 (Громова 1998: 18). Информация о профессионально-должнос тном статусе респондентов включала, помимо кода профессии (по четырехзначному международному кодификатору) целый ряд дополнительных показателей. В частности, учитывались переменные, обозначающие место каждой профессионально-должностной позиции в системе властных отношений, уровень достигнутой квалификации в рамках данной профессии и пр. Подобный подход позволил учесть при воссоздании траекторий мобильности изменение во времени самих критериев , описывающих социальные позиции людей, что является исключительно актуальным в период глубоких общественных трансформа ций.
С методологической точки зрения, в нашем исследовании был использован аналогичный подход, хотя и отличающийся по конкретным методикам обработки информации о социальных статусах. Нами была сделана попытка, во-первых, выявить реальную картину мобильности, складывающуюся из суммы жизненных траекторий каждого респондента за период реформ; во-вторых, чтобы снизить неизбежную субъективность оценочных суждений, людям были предложены открытые вопросы о том, где и кем они работали в 1991 г. (последний год перед активным реформированием экономики) и на момент обследования. Таким образом, основная работа по вынесению вердикта о динамике социально-профессионального статуса того или иного участника опроса была проделана самими исследователями путем двоичного кодирования по 7 основным и 30 вспомогательным позициям (подробнее Таблица 4 Приложения).
Восходящая мобильность рассматривалась как служебный рост в рамках прежней профессии, либо, в случае смены профессии или рода занятий, различные варианты "продвижения" классифицировались по трем критериям: а) новое занятие более престижно; б) перемены рода де
9 Информационной базой исследования являлся массив данных "Социальные перемены в России", включающий сведения примерно о 5 тыс. респондентов. Эти данные были собраны в ходе международного сравнительного исследования "Social Stratification in Eastern Europe after 1989", которое охватывало Болгарию, Чехию, Словакию, Венгрию, Польшу и Россию. Российская часть исследования была выполнена ВЦИОМ. Выборочная совокупность репрезентативна для взрослого населения России.
Далее...
|